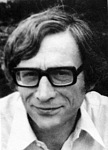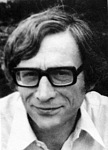
Мне редко хочется найти подтверждение своим талантам в родственной наследственности. Обо мне принято говорить: «пошла в бабушку». Действительно, большая часть моего семейства, людей старшего поколения, занимается наукой, только бабушка переводила что-то и писала путевые заметки. Да и внешне можно найти между нами сходство, сверяя мое отражение в зеркале со старыми потрепанными фотографиями. Однако, сама я никогда не стремилась к подобной близости. Конечно, приятно чувствовать за спиной невидимую поддержку, но они ведь такие другие эти бабушки и дедушки, эти предки, люди ушедшей эпохи.
Лет 20 назад Литературный институт был еще недоступным учебным заведением для только что окончивших школу, юных и неоперившихся девушек. Смешно было и думать об этом, если у тебя недостаточно публикаций и веса в обществе. Но в 94-ом, том году, когда я поступала, все уже было по-другому. Расширил свои рамки факультет перевода. Вместо принятых ранее языков республик СССР, там теперь переводили с английского, французского и даже с немецкого. Я попала в семинар перевода с французского языка. На втором курсе у нас поменялся преподаватель. Вместо Льва Адольфовича Озерова, задумчивого высокого поэта, к нам пришел Александр Михайлович Ревич, улыбающийся, чуть прихрамывающий после ранения на войне, человек. Тоже поэт и переводчик с французского. В период второго или третьего года моего обучения в Литинституте в Центральном Доме Литераторов состоялся вечер памяти Аллы Беляковой. Аллочка была когда-то женой маминого старшего двоюродного брата. В молодости они все очень любили этого худощавого высокого человека, улыбающегося сквозь очки со старых черно-белых фотографий. Его звали Тадэос Бархударян, и умер он в 1988-ом году, когда мне было 12 лет. Мне не удалось запомнить его. Только высокая фигура в клубах сигаретного дыма встает перед глазами. Да вспоминается сцена, когда Аллочка пришла к нам уже после его смерти и спрашивала, почему-то у мамы, за что Бог забрал ее мужа. Он был писателем, работал в издательстве, учился когда-то, а потом и преподавал в Литературном институте. Но в его времена учили реализму, как мне казалось, абсолютно несовместимому с французской поэзией начала XX века, которой мы так увлекались.
[]Итак, тем осенним вечером происходила встреча всех поклонников и соратников Аллы Беляковой, чтение ее стихов и презентация книжки, на обложке которой помимо ее портрета, красовалась фотография любимого мужа. Та самая улыбка сквозь очки. Вечер подходил к концу, мы стояли у выхода и тут-то и встретились с Александром Михайловичем. Ну конечно, они были друзьями. Учились вместе. С тех пор, только увидев меня, Ревич начинал улыбаться, вспоминая своего любимого друга Тодика. Мы даже подарили ему одну из тех самых черно-белых фотографий с улыбкой сквозь очки. Но прошло довольно много времени, лет пять точно, даже больше, прежде чем я решилась, наконец, прочесть хоть одну из дядиных книг.
Какое долгое вступление. Зачем оно мне? Наверное, затем, чтобы постепенно вспомнить, как произошла наша встреча. Удивительно встретиться, так и не познакомившись в жизни, но как же неожиданно близок оказался мне этот чуть грустный ностальгическо-сентиментальный тон повествования.
«Свет зимы» – последняя и лучшая, как это часто случается с посмертными произведениями, книга Тадэоса Бархударяна, писавшего под псевдонимом Федор Колунцев. «И в это субботнее январское утро Укромина, как и всегда, разбудил задолго до рассвета первый троллейбус, промчавшийся по пустынному проспекту». На семинарах в институте мы обсуждали тему первой фразы романа, повести, стихотворения. Даже самое первое предложение не должно быть случайным. «По утрам он поет в клозете». Так начинается роман «Зависть» Юрия Олеши, одного из любимых писателей Тадэоса Бархударяна. «Я ехал на перекладных из Тифлиса». Это уже Лермонтов «Герой нашего времени». Свой городской роман «Свет зимы» Федор Колунцев начинает типичной московской сценой. Морозный январь за окном, гремящий троллейбус, стареющий человек в пустой квартире наедине со своим прошлым.
Сейчас уже не пишут городских романов. Отпала необходимость и в соцреализме, и в каком-либо другом виде реализма. Герои романа теперь либо расследуют убийство, либо живут действием, от события к событию. Важен сюжет, экшн. А Федор Колунцев любил писать о думающих людях. Его герой только и делает весь роман, что думает, и еще вспоминает. Вспоминает то, что сейчас уже вряд ли кто вспомнит. Такой вот, например, была Москва:
«Я же в детстве жил в небольшом московском двухэтажном доме с просторным двором и флигелем. Улица наша была узкая, невидная, но называлась громко: улица Маркса – Энгельса. Она и сейчас так называется и пролегает за библиотекой Ленина. Но в те годы – в двадцать восьмом – двадцать девятом – на месте нового корпуса библиотеки был большой сад. А там, где сейчас колонны, лестницы и вход в метро, был обширный пустырь, выходивший на Воздвиженку. На нем горели костры, стояли крестьянские телеги, а зимой сани с задранными оглоблями, и лошади жевали овес из торб. Что-то булькало и варилось в закопченных котелках, подвешенных над кострами. А вокруг костров сидели бородатые мужики в лаптях – ходоки из деревень, приезжавшие посоветоваться к Калинину».
А вот солнечный Тифлис-Тбилиси – вторая родина и любовь на всю жизнь:
«Мне предстояло привыкать к новому для меня городу, совсем не похожему на Москву. Тут была другая жизнь, и шла она в другом темпе. Здесь не было такси «Рено», зато коляски извозчиков назывались «фаэтон» и были куда роскошней московских: две холеных лошади – коренник и пристяжная, – сбруя, украшенная металлическими бляхами кавказской чеканки, экипажи на дутых пухлых шинах. И еще ходили по городу ослики, – мышастые и гнедые, – с ковровыми переметными сумами – хурджинами или запряженные в маленькие двуколки… В центре города были дома с красивыми европейскими фасадами и кафе на тротуарах под цветными тентами (спустя сорок лет я увидел такие же в Париже). Ближе к окраинам – узкие азиатские переулки и совсем другие дома с резными деревянными балконами. Там можно было встретить арбу, запряженную волами, и даже верблюда».
Роман пронизан воспоминаниями о юности, проведенной в жарком солнечном Тифлисе. Другой мир романа – мир холодной московской зимы восемьдесят какого-то года, мир наступающей старости.
Вот он, герой – Юрий Михайлович Укромин (говорящая фамилия) – скромный интеллигент, работающий в издательстве, вдовец, переживающий сложные отношения с уже взрослым сыном. Пожилой человек с некоторым страхом ощущающий приближение старости, так и не сумевший стать своим в новом, пришедшем на смену мечтам юности, мире. Не по-современному, уже тогда, в 80-е годы, сентиментальный. Человек из «невостребованного поколения», как написано в послесловии к книге. И здесь очень к месту прозвучат слова из дневника писателя, приведенные в той же статье в конце романа:
«Возникает отчаяние. Вся жизнь на грани навязанных компромиссов… С самим собой, с делом, с судьбой. Так это или не так? Конечно, компромиссы не до конца… Я живу во внутренней эмиграции. Но где-то там, внутри, в самой глубине души, «глоток свободы», о которой никто не знает, которой я ни с кем не делюсь, в которую никого не пускаю. Она только моя, и я никому не дам ее осквернить. Никому. Даже самым близким. А у меня их мало».
«… Вот жил такой человек – с двойной родиной (Тбилиси – Россия), с армянской сутью и русской культурой, отчего-то не нужный никому, не прибившийся ни к какому берегу, сжигаемый сомнениями – владеет ли он даром писания – и все равно угрюмо влекущийся к письменному столу.
Господи, алкаю слова!»
Мама часто вспоминает, как здорово Тодик (так его называли родные) умел рассказывать. Им казалось, что в своих романах (а написать он успел совсем немного, слишком мучительно работал, оттачивал фразу) он слишком сдержан, не так колоритен, как в жизни. Возможно, это результат все той же «внутренней эмиграции», а, может, он просто не любил давить на педаль. Как пианист, исполняющий ноктюрн Шопена, он брал ноты мягко, но так, чтобы можно было глубоко и до конца прочувствовать всю красоту звучания.
Левик Манукян, по прозвищу Кясип, мечтал о велосипеде. Иметь велосипед в Тбилиси того времени, значило обладать несметным богатством. Да и во все времена мальчишки мечтают о велосипедах. Но в те предвоенные годы, в Тифлисе, мало кто мог позволить себе подобную роскошь, и Левик вместе с другом Юриком, в будущем редактором московского издательства Юрием Михайловичем Укроминым, решают заработать на велосипед. Вместе они чинят керосинки и примусы, выполняют и другую, доступную мальчишкам работу. И вот наступает долгожданный день. В магазине «Спорт» «выбрасывают» велосипеды. Через весь город несется стайка мальчишек к вожделенной мечте. Через несколько дней разразится война, и потому все это так врезается в память главному герою. Велосипед им так и не достался и безутешное горе Левика «Кясипа» оказалось пророческим, оплакивающим их погубленные мальчишеские судьбы. Однако, нашим героям удалось выжить и через 30 лет они встречаются в Москве. Солидные люди, они сидят в ресторане и вспоминают нищую юность.
Интересно играет с нами судьба. Как легко забывается историческое, как трепетно храниться мимолетное. Юрик навсегда запомнил Левика мальчишкой, плачущим у спортивного магазина. И как же он был потрясен, когда, оказавшись на даче у внезапно скончавшегося от инфаркта известного хирурга Левона Манукяна, обнаружил в коридоре «голубой, богато сияющий в красноватых солнечных лучах хромированными деталями велосипед». Велосипед, на котором пожилой хирург уже не мог кататься, но не смог и не купить. Сам Чарли Чаплин позавидовал бы такому эпизоду.
После него остался один ненаписанный роман: «Мандариновый инспектор». Это был бы роман об отце, и в нем, возможно, Федор Колунцев уже не стесняясь, полностью распахнул бы свою шкатулку памяти. Это должен был быть роман о медленном умирании души и судьбы. О медленном умирании в полном душевном одиночестве. О том, что отец не посмел сказать сыну о крушении своей веры, о своей тоске и так и умер, не раскрыв этой своей кровоточащей «тайны». И сын, очень любивший отца, лишь через годы, уже достаточно повзрослев, понял все – сам. Это должен был быть роман о том, как система неотвратимо и беспощадно убивала человека, не загоняя его в лагеря и тюрьмы, не наградив пулей в затылок, а просто постепенно приоткрывая перед ним свое античеловеческое лицо.
Отец его, выходец из древнего армянского рода Мелик-Бархударянов, родился в Зангезуре, высшее образование получил в Новочеркасском политехническом институте и – ушел в революцию. После революции он несколько лет работал в Москве, затем был послан на партийную работу в Закавказье, где поочередно занимал большие посты в Наркомате земледелия. Чудом не был арестован в 1937 году, но был снят с должности и изгнан из Наркомата земледелия. Закончил он жизнь в Тбилиси в должности «мандаринового инспектора». Работа его заключалась в контроле за качеством отправляемых из Тбилиси в разные регионы страны мандаринов. Отец был настолько щепетильно честным человеком, что в их довольно бедном доме, где рос его маленький сын, ни разу не появился хотя бы один мандарин из проверяемых им железнодорожных составов в тоннами мандаринов.
В «Свете зимы» все же есть образ отца. Образ мимолетный, овеянный романтикой ранней смерти.
«Машина, беспрерывно гудя, шла сквозь толпу, я ерзал на горячем сиденье. Жаркий ветерок трепал волосы отца, сидевшего впереди. На ярком солнце они казались еще более рыжими, чем всегда. Он умер молодым, через семь лет от внезапного инфаркта, не успев, как я, поседеть и побуреть, и, вспоминая его сейчас, я в первую очередь вспоминаю, как развевались и горели тогда на горячем ветру его курчавые, огненные волосы…»
Что ж и я буду вспоминать этого высокого южного человека, горячо любимого друзьями и родными, и такого одинокого в глубине души, которого никогда не знала, и который неожиданно оказался таким родным.
2008 год
Лилит Базян
На самую главную
|